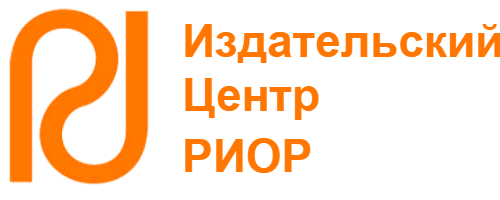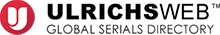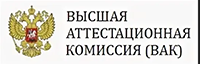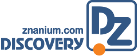VAK Russia 12.00.02
VAK Russia 12.00.10
VAK Russia 12.00.12
VAK Russia 12.00.14
CSCSTI 10.07
Russian Library and Bibliographic Classification 60
It’s impossible to study structure of the foreign countries’ judicial systems and their legal nature without understanding of the legal system, social and other conditions of their functioning. In this article the author analyses legal nature of the local courts middle aged Britain through the features of its legal system and social conditions those time.
English courts, local courts, justice of the peace, common law, legal system, capital courts, statutory law, ecclesiastical courts
Актуальность проведённого исследования обусловлена научной дискуссией относительно того, какую роль и какое место институт мировых судей («местных судов») должен занимать в судебной системе государства. В российской науке существует подход, согласно которому институт мировых судей выполняет вспомогательную роль, разгружая работу вышестоящих судебных органов по рассмотрению наиболее важных и «значимых» дел. В этой связи может возникнуть вопрос о целесообразности возрождения в современной России мировой юстиции, представленной мировыми судьями.
Является ли это неудачным экспериментом, своеобразным «пережитком прошлого», которому нет места в будущем? Разрешение обозначенной дискуссии носит системный, концептуальный характер и зависит от выявления юридической природы местных судов. В связи с этим возникает интерес к истории зарождения местных судов, их юридической сущности, которую нельзя выявить в отрыве от правовой системы государства. Так как мировая юстиция в первозданном виде получила законодательное оформление в Англии, обратимся к исследованию ее истоков. При этом отметим, что теоретическая разработка вопросов, связанных с возникновением и развитием местных судов как правового феномена дает возможность российскому законодателю определить перспективы дальнейшего развития и совершенствования института мировых судей.
Исследование юридической природы местных судов в Англии основывается на труде Тома Джонсона (Law in Common. Legal Cultures in Late-Medieval England, автор: Tom Johnson) [1]. Делая акцент на правовой культуре средневековой Англии, Том Джонсон подробнейшим образом описывает состояние судебной системы в то время: «Долгий и запутанный процесс формирования общего права в XII-XIII вв. помог создать глубоко укоренившиеся местные суды, которые объединились к концу Средних веков».
Основываясь на сведениях о социальных условиях, правовой культуре населения и особенностях правовой системы Англии того времени, автор описывает генезис местных судов в средневековой Англии.
Право в Англии первоначально формировалось исходя из власти монарха, оформленной законодательными актами. После завоевания Англии норманнами в 1066 году начало правового регулирования королевской власти рассматривается, как правило, в контексте Великой хартии вольностей 1215 года (Magna Carta или Great Charter). Великая хартия вольностей установила ограничения власти монарха по отношению к наиболее уважаемым его сторонникам – баронам. Купцы и землевладельцы постепенно приобрели законное положение и возможность влиять на управление в государстве через Парламент, который со временем стал законотворческим органом, с возрастающей ролью в решении текущих вопросов королевства. В Англии подавляющую часть правовой системы составляет общее право, и его кодификация, по большому счету, это вопрос консолидации общего и статутного (писанного) права.
Общее право представляет собой основную часть английского неписанного права, которое развивалось, начиная со средних веков. Название исходит из идеи, что английское средневековое право, администрируемое судами земель, отражает «общие» обычаи королевства. Эта система права превалирует в Англии в других странах, таких как США, которые были первоначально колонизированы английскими поселенцами. Общее право называют, также, «неписанным» правом, потому что оно не содержится в едином источнике права. Сообщения о решениях английских судов, из которых происходит общее право, были редкостью вплоть до XVII столетия, когда официальные сообщения о судебных решениях начали публиковаться частными лицами. Эти ранние сообщения снабжались учеными трактатами, анализирующими большинство дел. Самый известный – издание сэра Уильяма Блэкстоуна (Sir William Blackstone), опубликованное в 1765-69 гг.
Общее право также отличается от других форм прецедентного права, берущих начало в параллельных судебных системах, которые служили нуждам различных сегментов раннеанглийского общества. В средние века, например, суды общего права были светскими, в отличие от церковных судов римской католической церкви, которым подчинялось духовенство королевства. Общее право также не регулировало торговые отношения, что было в юрисдикции торговых судов, а также морское право, создаваемое адмиралтейскими судами.
Жители деревенских общин XV века регулярно пользовались тремя основными судебными органами: поместными судами, столичными судами или литами (последние часто сочетались с поместным делом) и низшими церковными судами. Эти три судебных органа технически различались и часто изучались изолированно друг от друга, но они взаимодействовали различными способами и должны пониматься в едином контексте. Иногда они спорили друг с другом относительно юрисдикции, но конкуренция не была единственным выражением их взаимосвязи; они также могли использоваться совместно жителями, пытающимися решить проблему, выходящую за пределы оного населенного пункта. Например, поступила жалоба из литовского суда Монкстона (Хэмпшир) в 1459 году, что ректор Томас Спаршот продолжал держать женщину по имени Изабелла Хучонс в своем доме, «несмотря на исправление устава церковной службы и настоятель этого церковного округа до сих пор повелевал". С точки зрения жителей, по-видимому, существовала, в некотором роде, изменчивость между компетенциями различных судов, и это даже могло быть потенциальным преимуществом в их попытках использовать их для нужд общины [1].
Существовали значительные различия между сельскими юрисдикциями. Например, поместный суд давно был признан наиболее важным юридическим учреждением для средневековых английских жителей деревень. Многие историки акцентировали его упадок в течение XV века, поскольку депопуляция вместе с большей мобильностью сельского труда разрушили традиционное триединство отношений между владельцем, арендаторами и землей, которое поддерживало деятельность судов. Безусловно, в этот период было меньше сессий поместных судов, чем раньше, и они часто переставали рассматривать межличностные споры; как показала Джейн Уиттл на примере поместного суда в Хевенингем-Бишопс в Северном Норфолке, объем записей их дел сократился примерно на половину в период между 1450 и 1520 годами. В некоторых местах упадок был еще более значительным; суд Бакленд Филея в Девоне, уже мало используемый в середине 1440-х годов, несколько десятилетий спустя практически превратился в заурядный суд, состоящий в основном из шаблонных записей, которые, кажется, создавались лишь для того, чтобы доказать преемственность юрисдикции [1].
В то же время эти изменения не обязательно означали полное «падение». Во-первых, существовало много значительных исключений – суды старинных поместий, например, со своими особыми юридическими привилегиями, продолжали быть чрезвычайно занятыми. Более того, даже в местах, где судебные разбирательства уменьшались, поместные суды структурно входили в саморегулирование деревень в качестве сельскохозяйственных сообществ. Они оставались судом первой инстанции, когда новые проблемы требовали разрешения. Так, в Брод-Чалк (Уилтшир) в 1463 году, казалось бы, бездействующий суд внезапно оживился, чтобы разобраться в сложном споре между арендаторами, ректором и местным взимателем десятин.Аналогично, изобилие местных законов и уставов во многих поместных судах ХV века свидетельствует о том, что это учреждение было восстановлено арендаторами для их собственных юридических целей - к этому вопросу они позже вернутся. Таким образом, хотя некоторые отдельные суды безусловно погрузились в забвение, многие другие оставались чрезвычайно важными как институты местного управления на протяжении XV века и даже дальше.
Во многом, возможно, в большинстве мест в Англии XV века поместный суд тесно связан с виллой, то есть королевской территориально-административной единицей, часто назывался литовым судом. В таких местах два суда фактически объединялись в одно учреждение, а сессии поместного суда проводились дважды в год, чтобы соответствовать круговой поруке. Это объединение двух судов не происходило одинаковым образом везде - некоторые поместья все еще проводили отдельные сессии, и еще более необычно, суд для деревни мог быть полностью разделенным и управляться через сотню, более широкое административное деление, которое включало множество деревень. Некоторые сотенные суды остались активными форумами для гражданских судопроизводств, например в Лондиче (Норфолк), Лофингланде и Мутфорде (Суффолк) и Уорминстере (Уилтшир), где сохранившиеся свитки свидетельствуют о их интенсивной активности. «В других местах сотня все еще могла встречаться дважды в год для осмотра круговой поруки во время турне шерифа от сотни в его графстве» [1].
Более низшие церковные суды составляли третий основной вид сельских институтов, доступных жителям. Из-за различий в судебной администрации между епархиями «деревенские» церковные трибуналы заметно отличались. Например, в епархии города Герефорд местный церковный суд технически был епископским судом, с «деревенскими римскими судами», проводимыми обычным епископом в рамках странствующей встречи в каждом деканате; в большом архидияконском округе Ричмонда (в епархии Йорка) затем архидиакон назначал генерального комиссара для выполнения этих обязанностей, и архидиаконатские капитулы были самыми низшими церковными судами в этом регионе. Такие соглашения о подведомственности также часто менялись со временем, поскольку конфликты из-за юрисдикции или обычных процессов административной деятельности приводили к реорганизации местных церковных судов под руководством разных должностных лиц. Среди этих официальных делений в епархии, таким образом, бесчисленные «особые случаи» в позднемедиевальной Англии, существующие вне обычной власти епископа, начинают выглядеть менее исключительными.
Многие особые случаи были связаны со светскими сеньориями, и в некоторых случаях их трибуналы могли быть тесно связаны, не так уж и отличаясь от обычного сочетания литейско-поместных судов. Удивительный пример этого можно найти в Амплфорте (Северный Йоркшир), пребендальном поместье Йоркского собора с собственной особой юрисдикцией. В 1450-х и 1460-х годах их литейские суды и акты собрания канонников - оба судебных разбирательства, принадлежащие пребендарию, проводились в один и тот же день. Заметно, что их процедуры даже записывались с обратной стороны одного и того же пергамента. Это объединение, кроме того, было сопровождено необычайно проницаемой границей между юрисдикцией двух судов. Например, в литейском суде присяжные обычно получали звание «инквизиторы», которое обычно присваиваются должностным лицам церковных судов. Их дела также были запутанными, например, Вильям Эллеслак был представлен за забирание десятин с места, названного Нанклоуз, вызван в литейский суд 1455 года. Здесь, как и в некоторых других местах, ветви светской и церковной юрисдикции были настолько тесно переплетены, что их объединяли вместе [1].
Даже в таких необычных объединениях церковное правосудие все же отличалось от своих светских аналогов. Юрисдикция церковных судов над духовной деятельностью - посещение церкви, уплата десятин и сексуальное поведение, например, придавала их работе публичную, регулирующую тенденцию, но, как мы увидим, они также были важным форумом для поддержания и восстановления межличностных отношений между отдельными прихожанами. Действительно, юрисдикция, которую они получили над клеветой в позднем средневековье, вместе с их притязаниями на согласие в браке и претензиями на устные контракты, означает, что они были главным местом для исправления произнесенных плохих слов в культуре, которая уделяла огромное значение речевым актам.
Эти два аспекта церковного правосудия соединялись в представлении о приходе как о мирном корпоративном сообществе. На основе поместья и деревни церковные суды положили третью модель юридических отношений на местном уровне.
Кроме различий в юрисдикции, сельские суды также отличались по местонахождению, регулярности и подвижности. Большинство поместных судов проводились в относительно небольшом радиусе от населенных пунктов, которыми они занимались. Некоторые были более удаленными: истцам и присяжным из шести поместьев, принадлежащих епископу Херефордаскому, приходилось путешествовать на трех или четырех милях в город для его халмотов (объединенных поместных и литских судов), которые проводились в епископском дворце рядом с собором. Могли ли эти полугодовые перемещения в сердце сеньории повлиять на характер процедуры? Сотенные суды иллюстрируют другой пример изменчивости местонахождения, часто собираясь на архаичных открытых площадках, таких как «лейская дубрава» в Уорминстерской сотне или где-то под камнем в частной сотне Северный Уичфорд (Кембриджшир) у епископа Элай. Истцы и главные поручители по крайней мере видели своих коллег из других близлежащих поселений, выполняющих одни и те же обязанности, и, возможно, имели представление о своей «стране» или ее более узкой части, изнутри более широкой местности. В отличие от этого, посещение регулярного заседания церковного суда требовало от большинства сельских жителей небольшого путешествия, либо в фиксированный суд, например в Уисбиче для его настоятеля, либо кочующего трибунала. Кочующие суды, действительно, могли перетаскивать истцов через церковный округ и даже еще дальше. Так, Джон Уэйкмен в сентябре 1420 года впервые был обвинен в нарушении верности (нарушение контракта) на заседании в приходской церкви в Хемсби (Норфолк) в рамках особой епископской юрисдикции над его поместными владениями в Норвичском соборе. Уэйкмен был снова вызван в Хемсби в следующем мае, но не пришел, вместо этого появился в июне на другом из приорских заседаний суда, недалеко от Мартхэма, где он отверг обвинения; ему было предложено явиться со свидетелями через неделю в Святой Марие в марше в Норвиче, в двадцати милях отсюда. Легко представить себе, что на такие случаи иногда намеренно использовались длинные расстояния, истцами и судебными должностными лицами. Но в духе закона или нет, такие расстояния, наверняка, явно демонстрировали судебную юрисдикцию тем истцам, которых они заставляли путешествовать [1].
Также более крупные землевладельцы с разбросанными поместьями отправляли надзирателей, чтобы посещать свои поместные владения в ходе прогресса, демонстрирующего масштаб их влияния. Сами эти лица проходили впечатляющие расстояния: осенью 1455 года надзиратель сэра Уильяма Бьошампа (лорда Сан-Аманда) проехал около 125 миль за две недели, проведя семь судов на десяти из его поместных владений в Бедфордшире, Нортгемптоншире и Оксфордшире. Хотя арендаторов не тащили между различными поместными судами, посещение кочующего сеньориального должностного лица по графику должно было повлиять на ход судебных заседаний. Так, когда в 1466 году вспыхнул спор между арендаторами Рингвуда (Хэмпшир) и их сэром, Кембриджским королевским колледжем, по поводу выездной сессии суда присяжных по делу об эле, дело было «отложено до следующего визита совета господина». Промежуточные записи не полны, но тот же спор, вероятно, несколько раз отправлявшийся туда и обратно между Кембриджем и Хэмпширом, продолжался еще в начале 1490-х годов [1].
Другая наиболее важная параллельная система права в средневековой Англии – право справедливости (equity jurisdiction). Право справедливости происходит из ранних английских законов, когда лицо могло обратиться к монарху «за справедливостью». Такие обращения передавались Лорду-канцлеру (Lord Chancellor), а затем в Канцлерский суд (англ. Court of Chancery). Право справедливости развилось в особую группу норм, созданных и применяемых, также, другими королевскими судами. Первоначально, суды общего права были в большей степени связаны прецедентами, чем суды справедливости, что обеспечивало средства правовой защиты, основанные на идее справедливости для тяжущихся, кто не согласен на разрешение спора на основе формально-юридического подхода общего права.
К концу средних веков общее право и право справедливости составляли массив английского права. Как общее право становилось менее формальным и право справедливости аккумулировало свои собственные прецеденты, различие между этими двумя формами права стиралось все больше. Они были, в конце концов, унифицированы когда Англия законодательно упразднила различия в Акте о Верховном суде 1873 года (Judicature Act 1873).
Таким образом, местные суды в средневековой Англии прошли эволюцию от выделения из совокупности прав и обязанностей главы государства (монарха), касающихся разрешения социальных конфликтов до самостоятельных судебных органов, творящих право при отправлении правосудия, что соответствует выводу Н.А. Колоколова и для судебных систем других стран, что свидетельствует о его универсальности [3].
Долгий и запутанный процесс формирования общего права в XII и XIII веках также способствовал созданию глубоко укоренившихся юрисдикционных структур, вокруг которых выстраивались локализованные культуры права в последующую средневековую эпоху. Как мы увидим, обычные люди, будь то крестьянские фермеры, городские ремесленники, моряки или лесорубы, находили в своих местных институтах огромный источник легитимности для своих собственных форм управления. Будь то «обычай», «право» или «справедливость», это основывалось на власти места для определения отношений между законностью и особыми формами ассоциативных отношений, характеризующих местность, в которой они жили. Обращение к местным юридическим культурам, таким образом, не только дает значение локализованным формам права, с которыми большинство людей сталкивалось в повседневной жизни, но и показывает - держа их руку об руку - что вместе они придали форму позднесредневековому английскому праву в целом.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что роль местных судов в средневековой Англии сводилась к охране «королевского мира», то есть к защите публичного интереса. Поэтому английскую модель мировой юстиции можно назвать «мироохранительной» по сравнению с французской моделью – «миротворческой», то есть примирительной. Присоединяясь к точке зрения М.А. Малининой, можно поставить тот же вопрос: «сегодня отечественный законодатель так и не дает полноценного ответа на главный вопрос: кто же такой российский мировой судья - это хранитель мира, правопорядка или прежде всего судья-примиритель? [4]
По справедливому мнению А.З. Акопяна, представляется важным определить «насколько фактическое состояние мировой юстиции при полном использовании всех ее возможностей удовлетворяет соответствующие правовые интересы общества» [2].
Подводя итог исследования, подчеркнем, что историческая обусловленность зарождения местных судов в средневековой Англии была продиктована необходимостью решения существующих в обществе проблем в осуществлении правосудия. Юридическая природа местных судов заключалась в их особом правовом статусе, который выражался, прежде всего, в охране существующего правопорядка.
Исследуя английскую модель формирования мировой юстиции, приходим к выводу, что главная ее идея, воспринятая в ходе реформы 1864 года, в современной России не реализована. Ввиду этого, в целях создания более действенной и совершенной модели мировой юстиции, основываясь на понимании юридической природы местных судов в Англии, считаем, что мировые судьи в России должны входить в систему судебных органов в качестве обособленной ветви мировой юстиции, выполняя только им присущую не только охранительную, но и в большей степени примирительную роль по упрощённым процедурам в судопроизводстве.
1. Tom Johnson. Law in Common. Legal Cultures in Late-Medieval England // Oxford University Press, 2020. 311.
2. Akopyan A.Z. Effektivnost' raboty mirovogo sud'i i kriterii ee ocenki // Innovacionnaya nauka, 2016. № 3-2 (15). S. 11.
3. Kolokolov N.A. Mirovaya yusticiya v trudah teoretikov i praktikov: tolkovanie formy nemyslimo bez uyasneniya soderzhaniya // Mirovoy sud'ya. - M.: Yurist, 2016. № 6. S. 3-8.
4. Malinina M.A. Mirovaya yusticiya i iskusstvennyy intellekt // Mirovoy sud'ya, 2021. № 4. S. 17 – 21.