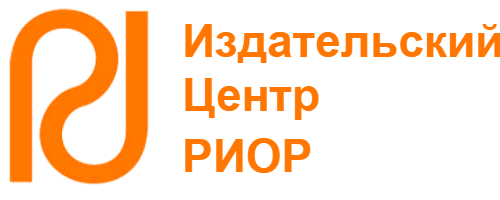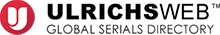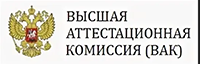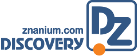from 01.01.2011 until now
Moskva, Moscow, Russian Federation
Gosudarstvenno-pravovoe upravlenie Apparata Moskovskoy gorodskoy Dumy (otdel pravovogo analiza zakonoproektov, sovetnik)
Moskva, Moscow, Russian Federation
VAK Russia 12.00.02
VAK Russia 12.00.10
VAK Russia 12.00.12
VAK Russia 12.00.14
CSCSTI 10.07
Russian Library and Bibliographic Classification 60
The article substantiates that the terms "person", "personality", "person", "natural person" in the language of modern law are not absolute synonyms referring to an individual in the same legal hypostasis. They correspond to fundamentally different legal hypostases of an individual as a subject of law. At the same time, the concepts of "person" and "personality", which are considered to be the most universal names of an individual as a subject of law, actually turn out to be narrower in scope than the concepts of "person" and "individual", traditionally associated with legal civics, but in reality have long gone beyond its scope. The fact that "person" and "natural person" become not only generally accepted, but also the most universal names of an individual as a subject of law, negatively affects the perception of a person in law, creates prerequisites for the devaluation of what is associated with him and valuable specifically for him.
legal entity, person, personality, person, individual, human right
В действующем законодательстве применяется множество лексем для обозначения людей как субъектов права. При этом наряду со словами и словосочетаниями, используемыми для обозначения людей, пребывающих в определенном специальном статусе, обладающих отличающим их от других набором субъективных прав и юридических обязанностей (гражданин, обвиняемый, опекун, наследодатель, государственный служащий, должностное лицо и др.), широко используются термины, которые принято считать универсальными: «человек», «личность», «лицо», «физическое лицо».
В научной литературе такие термины нередко используют в качестве взаимозаменяемых [3, с. 49-51; 4, с. 190-193]. Вместе с тем отдельные исследователи придерживаются мнения о том, что, по крайней мере, некоторые из них не могут и не должны рассматриваться в качестве таких, которыми обозначаются тождественные понятия [9, с. 20-25; 2, с. 255-256 и др.].
В праве именования субъектов несут в себе сугубо практический смысл, и даже антропологические, биологические и социопсихологические характеристики могут приобретать юридическое значение. В этой связи возникает вопрос: действительно ли можно рассматривать термины «человек», «личность», «лицо», «физическое лицо» в качестве синонимов? Или все же ими, как и терминами, маркирующими специальные правовые статусы, обозначаются разные юридические ипостаси людей как субъектов права?
В юридической науке в качестве наиболее универсального из всех обозначающих индивидуальных субъектов права понятий чаще всего употребляется понятие «человек». Подразумевается, что человек – это любой индивид, обладающий набором универсальных биологических и социальных характеристик. Имея разум и способность к абстрактному мышлению, человек в процессе социализации приобретает качества и навыки, позволяющие ему стать субъектом сложной по своей структуре социальной жизни и участвовать в формировании культуры того общества, в котором он живет. Социальные качества и навыки человека в полной мере проявляются в его правовой жизни, в тех правоотношениях, в которые он вступает с другими людьми.
В качестве универсального также используется – хотя и несколько реже – понятие «личность». Изначально «личность» – социально-психологическая категория [9, с. 20]. Поэтому, несмотря на то что термины «человек» и «личность» зачастую употребляются как тождественные, в действительности абсолютными синонимами они не являются.
Там, где ставится вопрос об индивидуальном субъекте права как о личности, акцент делается не на признаваемых за ним правом возможностях удовлетворения собственных интересов и потребностей, а на тех социальных и психологических характеристиках, носителями которых является человек. Как следствие, возможным с юридической точки зрения оказывается разграничение личности человека и его прав. Показательным примером в этом смысле является то, что необходимая оборона описывается в ч. 1 ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации как причинение вреда посягающему при защите «личности и прав обороняющегося или других лиц», а ст. 239 того же кодекса устанавливает ответственность за «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».
Наибольший интерес в юридическом поле вызывают характеристики личности, определяющие правовой выбор и, следовательно, правозначимое поведение человека. Именно поэтому наряду со словом «личность» востребованными в языке права оказываются термины «личность преступника», «личность подсудимого», «личность осужденного», «личность кредитора», «личность должника» и т.д.
Анализ действующего законодательства позволяет заключить, что в действительности понятия «человек» и «личность» не являются наиболее универсальными из всех обозначающих индивида как субъекта права.
Человек с юридической точки зрения прежде всего воспринимается в качестве субъекта, который с рождения выступает носителем прав и свобод, связываемых с его биосоциальными характеристиками и потому признаваемых неотчуждаемыми.
Бесспорно, наряду с обладанием правами и свободами, человек как субъект права характеризуется тем, что он несет обязанности и ответственность. Вместе с тем в его юридической характеристике именно права и свободы выступают на первый план: а) по крайней мере, некоторые из них рассматриваются в качестве тех, которыми человек обладает уже в силу принадлежности его к человеческому роду; б) подразумевается, что права человека носят всеобщий и универсальный характер; в) обязанности и ответственность, в отличие прав, воспринимаются в качестве того, что приобретается в социальных отношениях, в процессе взаимодействия человека с другими людьми.
Личность – это индивид, рассматриваемый через призму того, что составляет его внутренний мир как существа, с одной стороны, единичного, уникального, с другой стороны, интегрированного в социальную общность и только в данной общности способного быть тем, кем он является. Внешние, физические аспекты бытия в правовом пространстве индивидуального субъекта как личности значимы постольку, поскольку они связаны с его внутренним миром. Именно поэтому в праве не принято говорить о «собственности личности», о «теле личности», «кредиторской задолженности личности» и т.д.
Опираясь на анализ действующего российского законодательства, можно утверждать, что более широким и вследствие этого более универсальным, чем понятия «человек» и «личность», в действительности является понятие «лицо». И несмотря на то, что ученые часто используют это понятие как на родовое по отношению к понятиям «физическое лицо» и «юридическое лицо» [7, с. 113-121; 11, с. 14-16], в юридических документах, в том числе в нормативных правовых актах, в действительности им часто обозначаются именно люди как субъекты права.
Например, термином «лицо» довольно часто маркируется индивид как субъект права в Конституции Российской Федерации: «до судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов» (ч. 2 ст. 22); «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются» (ч. 1 ст. 24); «в Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением» (ч. 2 ст. 63).
Можно привести и другие примеры. Раскрывая назначение уголовного судопроизводства, ч. 1 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации указывает на «защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений». Таким образом, подразумевается, что лица и организации представляют собой разные категории субъектов права. Ст. 3 Трудового кодекса Российской Федерации закрепляет положение о том, что «лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда». Ст. 63 того же кодекса предусматривает, что «заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет…». Очевидно, и здесь под лицами понимаются именно индивидуальные субъекты права, не юридические лица.
Используется понятие «лицо» в рассматриваемом значении и в научной литературе. Например, Н.В. Витрук, когда пишет, что «действия лица обусловливаются не только внешними, но и внутренними причинами (его интересом, знаниями, волей, убеждением, чувством, индивидуальным опытом и т. д.)» [4, с. 190], очевидно, под лицом понимает именно индивида как субъекта права.
В отличие от «человека» и «личности», «лицо» предстает такой юридической ипостасью индивида, в которой он, с одной стороны, признается формально равным другим людям, с другой стороны, выступает субъектом, который может быть выделен в ряду других субъектов путем наделения его специальными правовыми статусами (для обозначения таких статусов используются, например, термины «должностные лица», «лица, отбывающие наказание», «близкие лица», «лица, нуждающиеся в повышенной социальной и правовой защите» и др.).
Лицо – такая ипостась субъекта права, в характеристике которой наиболее значимым свойством выступает правосубъектность, то есть формальное наличие свойств, делающих индивида способным с точки зрения права быть субъектом правоотношений.
В том значении, в каком термин «лицо» применяется для маркирования субъектов права, он синонимичен словосочетанию «физическое лицо». Однако имеется тонкий смысловой нюанс: термин «физическое лицо» чаще используется там, где необходимо акцентировать внимание, что речь идет об индивидуальном субъекте права, не о юридическом лице.
Физическое лицо – это термин, который сегодня чаще всего применяется для обозначения индивида как правоспособного и дееспособного субъекта, выступающего носителем гражданских прав и обязанностей. Для юристов он уже стал настолько привычным, что никто не задается вопросом, когда и при каких условиях данное словосочетание стало частью языка российской юридической науки, а затем – языка права. Вместе с тем анализ юридической литературы последней четверти XIX – первой четверти ХХ вв. показывает, что в данный исторический период термин «физическое лицо» все еще не имел того статуса, который приобрел сегодня. Физическое лицо не отождествлялось с человеком, а многие правоведы предпочитали вместо рассматриваемого термина использовать словосочетания «физическая личность» и «цивильная личность» как более точно передающие смысл обозначаемого ими понятия.
Стоит ли за термином «физическое лицо» реальность, отличная от той, которая обозначалась в отечественной дореволюционной науке терминами «физическая личность», «цивильная личность»? Нет. В сущности, и «физическая личность», и «цивильная личность», и «физическое лицо» – термины, которые использовались для обозначения человека, юридически признанного правоспособным. Конструирование рассматриваемого термина изначально было связано с искусственным «помещением» цивилистами человека в правовую действительность и «привязыванием» к нему понятия «физическое лицо» для того, чтобы можно было живую мыслящую личность, юридически признаваемую правоспособным субъектом, приравнять, «поставить на одну доску» с юридическим лицом как искусственно созданным, фиктивно наделенным правосубъектностью объектом.
Постепенно традиция использовать термин «физическое лицо» вышла за рамки правовой цивилистики, и он наряду с термином «лицо» фактически стал универсальным термином права. Так, в ст. 19 Уголовного кодекса Российской Федерации указывается: «Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом». Ч. 1 ст. 1.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает: «Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Физические лица подлежат административной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Юридические лица подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств».
Универсальность терминов «лицо» и «физическое лицо», с одной стороны, предопределяется тем, что «в классической общей теории права субъект права сугубо инструментален и, разумеется, не является несущим элементом конструкции догмы права» [10, с. 302] (подтверждением чему служит само появление в современной юридической науке дискуссий о возможности и целесообразности признания субъектами права, например, животных [1, с. 106-108; 6, с. 34] или роботов [8, с. 113-114; 12, с. 97-100, 105]). С другой стороны, она связана с тем, что и «физическое лицо», и «лицо» – в сущности своей искусственно сконструированные модели («физическое лицо – это не человек, а правовая маска человека» [5, с.30], и то же самое в полной мере справедливо в случае, когда человек именуется лицом).
То, что «лицо» и «физическое лицо» – не только общепринятые, но и наиболее универсальные наименования людей как субъектов права, не может не оказывать влияние на восприятие правовой реальности в ситуации, когда эти термины используются для обозначения принципиально иных юридических ипостасей индивида, чем термины «человек» и «личность».
Представляется, что главная проблема заключается в том, что когда индивид как субъект права называется лицом или физическим лицом, происходит своеобразное «раздвоение»: в юридическом поле появляется новый субъект, формально отличный от человека как того субъекта, который в аксиологическом поле рассматривается в качестве высшей ценности. При этом правовой статус первого субъекта юридически оказывается возможным и определять, и реализовывать в некотором отрыве от того, что провозглашается в отношении второго. Кроме того, во многих правоотношениях человек перестает быть человеком, подменяется абстрактной юридической формой, и лишь в этом своем воплощении он остается для права реальным.
Очевидно, именно в силу изложенного субъективное право начинает восприниматься исключительно в качестве меры дозволенного поведения, в качестве юридически закрепленной возможности действовать определенным образом, в качестве предоставленной человеку свободы делать выбор в пределах, определенных рамками закона. Очевидно, поэтому «правовая жизнь» превращается в понятие настолько размытое, что перестает ассоциироваться с человеком, а соотносимый с ним термин начинает восприниматься в качестве псевдоправового (и в том значении, которым он сегодня наделяется, к сожалению, иначе и быть и не может).
Итак, понятия «человек», «личность», «лицо», «физическое лицо» соотносятся с принципиально разными юридическими ипостасями индивида как субъекта права. При этом понятия «человек», «личность», которые принято считать универсальными, на самом деле таковыми не являются. В действительности, будучи шире понятий, используемых для обозначения людей, пребывающих в определенном специальном статусе (гражданин, обвиняемый, опекун, наследодатель, государственный служащий, должностное лицо и др.), они оказываются по объему уже понятий «лицо» и «физическое лицо».
То, что «лицо» и «физическое лицо» становятся не только общепринятыми, но и наиболее универсальными наименованиями людей как субъектов права, негативно влияет на восприятие индивида в праве, создает предпосылки для обесценивания того, что связано с ним и ценно именно для него.
1. Anisimov A.P. Prava zhivotnyh v rossiyskom i zarubezhnom prave //Agrarnoe i zemel'noe pravo. 2016. № 1(133). S. 103-108.
2. Arhipov S.I. Sub'ekt prava: teoreticheskoe issledovanie. SPb.: Yuridicheskiy centr Press, 2004. 469 s.
3. Belyanskaya O.V. O sovremennom ponimanii form i sposobov zaschity sub'ektivnyh prav lichnosti / // Tambovskie pravovye chteniya imeni F. N. Plevako: Materialy VI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii. Tambov: Izdatel'skiy dom «Derzhavinskiy», 2022. S. 49-51.
4. Vitruk N.V. Obschaya teoriya pravovogo polozheniya lichnosti. M.: Norma: INFRA-M, 2020. 448 s.
5. Gadzhiev G.A., Voynikanis E.A. Mozhet li robot byt' sub'ektom prava (poisk pravovyh norm dlya regulirovaniya cifrovoy ekonomiki)? // Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki. 2018. № 4. C. 24-48.
6. Gogleva K.Yu. Chelovecheskiy vzglyad na nechelovecheskie prava // Baykal'skie komparativistskie chteniya: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf., Irkutsk, 20–21 marta 2025 g. / otv. red. I.A. Minnikes. Irkutsk : Izd. dom BGU, 2025. S. 32-40.
7. Gruzdev V.V. O suschnosti grazhdanskoy pravosub'ektnosti // Aktual'nye problemy rossiyskogo prava. 2018. № 2(87). S. 113-121.
8. Lanovaya G.M. Teoreticheskie diskussii o pravosub'ektnosti robotov kak otrazhenie izmeneniya pravovoy zhizni cheloveka v epohu cifrovizacii // Sub'ekt prava: stabil'nost' i dinamika pravovogo statusa v usloviyah cifrovizacii: sbornik nauchnyh trudov / pod obsch. red. D.A. Pashenceva, M.V. Zaloilo. M.: Infotropik Media, 2022. S. 113-121.
9. Lobzov K.M., Bogdanov A.V., Hazov E.N. Pravovoy status lichnosti kak sub'ekt i ob'ekt pravootnosheniy v sovremennom zakonodatel'stve Rossiyskoy Federacii (teoretiko-metodologicheskiy analiz) // Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti. 2015. № 7. S. 20-25.
10. Social'naya antropologiya prava / Pod red. N.A. Isaeva, I.L. Chestnova. SPb.: Alef-Press, 2015. 840 s.
11. Huzhin A.M. O sub'ekte nevinovnogo povedeniya v prave // Zakon i pravo. 2011. № 11. S. 14-16.
12. Channov S.E. Robot (sistema iskusstvennogo intellekta) kak sub'ekt (kvazisub'ekt) prava // Aktual'nye problemy rossiyskogo prava. 2022. T. 17. № 12. S. 94–109.